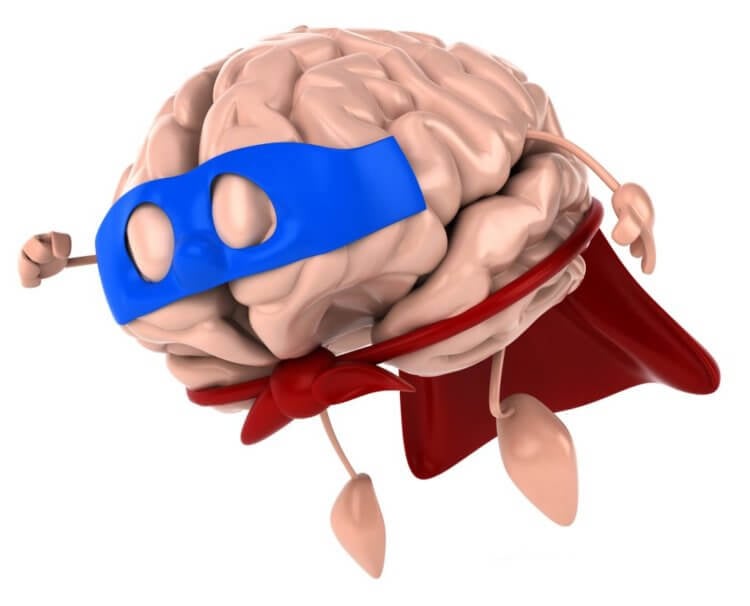ваш мозг может прочитать это
На что способен наш мозг? 10 удивительных фактов
Благодаря многолетнему изучению наших внутренностей при любом удобном случае, учёные стали хорошо понимать, как работает практически каждая часть нашего тела. Однако самым загадочным отделом нашего организма является головной мозг. И чем больше мы его изучаем, тем более загадочным он становится. Вы даже не представляете, на какие удивительные вещи способна наша «думалка». Не переживайте, ученые долгое время тоже этого не знали.
Сегодня мы расскажем о 10 самых невероятных возможностях нашего мозга, которые делают нас почти супергероями.
Мозг умеет создавать ложные воспоминания
Вот вам научный факт: наш мозг способен создавать ненастоящие воспоминания. Вы никогда не оказывались в ситуации, когда что-то помните, хотя в реальности этого никогда не было? Нет, мы сейчас не говорим о воспоминаниях о прошлых жизнях, где вы были Цезарем или Клеопатрой. Речь о идёт о том, что вы «помните», как делали вещи, которые в реальности не делали. Думали, что заняли денег у соседа, а на самом деле не занимали. Думали, что купили какую-то вещь, а на самом деле не покупали. Таких примеров куча.
Есть и более впечатляющие. Например, наш мозг может убедить нас в том, что мы совершили преступление. В одном из экспериментов учёные смогли внушить и создать ложные воспоминания у 70 процентов участников. Те стали думать, что совершили кражу или вооруженное нападение.
Как это работает? Есть мнение, что наш мозг может заполнять пробелы в нашей памяти неточной или полностью недостоверной информацией, когда мы пытаемся что-то вспомнить.
Наш мозг может предсказывать будущее
Установлено, что во время поступления визуальной информации в наш мозг существует некоторая задержка, благодаря чему мы можем прогнозировать то, что должно произойти дальше. Эти предсказания строятся в том числе и на нашем прошлом опыте (в нас летит мяч — нужно увернуться; открытый дорожный люк – нужно обойти). Мы даже не подключаем к этому свое сознание (другими словами, не обдумываем). Все люди способны предсказывать будущее, что помогает нам избегать тех вещей, которые могут нам навредить.
Наш мозг «видит» на 360 градусов
Мозг может видеть лучше, чем глаза.
А эта возможность делает нас похожими на «Человека-паука». Да, мы, а точнее наш мозг способен очень внимательно следить за окружающей обстановкой и сообщать о том, что мы еще толком не осознали. Например, мы начинаем ощущать, за нами кто-то следит. Появляется чувство неловкости, начинаем потеть, кожа покрывается мурашками. Поворачиваем голову в эту сторону, и действительно видим, что какой-то человек на нас смотрит. Некоторые это называют «шестым чувством».
Глаз на затылке у нас нет, да и поле зрения у нас довольно узкое, по сравнению с другими животными. Но мозгу они там и не нужны. У него есть более эффективные средства для оценки окружающей обстановки. Например, слух, который способен замечать даже самые незначительные изменения в окружающем фоне. И эта способность особенно усиливается, когда мы не можем видеть часть этого окружения.
Застрять в чужой голове: что чтение делает с нашим мозгом
natgred
Вообще-то от природы наш мозг не годится для чтения: эта способность развивается только у тех, кого специально учат различать буквы. Несмотря на это, «противоестественное» умение изменило нас навсегда: мы можем представлять места, в которых никогда не бывали, разгадывать сложные когнитивные загадки и (возможно) становиться умнее с каждой прочитанной книгой. Разбираемся, как нам удается почувствовать себя в шкуре персонажа любимой книги и почему стоит научиться читать как можно раньше.
Перестройка мозга
Французский нейробиолог Станислас Деан шутит, что дети, которые участвуют в его исследованиях, чувствуют себя астронавтами, когда ложатся в аппарат МРТ, напоминающий капсулу космического корабля. Во время тестов Деан просит их читать и считать, чтобы проследить за работой мозга. На сканировании видно, как даже одно прочитанное слово оживляет мозг.
Мозг действует логично, говорит Деан: сначала буквы для него — это просто визуальная информация, объекты. Но затем он соотносит этот визуальный код с уже имеющимся знанием о буквах. То есть человек узнает буквы и только потом понимает их значение и то, как они произносятся. Все потому, что природа не предполагала, что человек изобретет именно этот механизм для передачи информации.
Чтение — это революционная техника, искусственный интерфейс, в прямом смысле перестроивший наш мозг, в котором изначально не было специального отдела для распознавания лингвистических символов. Мозгу пришлось приспособить для этого первичную зрительную кору, через которую сигнал проходит по веретенообразной извилине, ответственной за распознавание лиц. В этой же извилине находится хранилище знаний о языках — его еще называют «почтовым ящиком».
Вместе с коллегами из Бразилии и Португалии Деан опубликовал исследование, вывод которого гласит, что «почтовый ящик» активен только у тех, кто умеет читать, и стимулируется лишь известными человеку буквами: он не будет реагировать на иероглифы, если вы не знаете китайского. Чтение влияет и на работу зрительной коры: она начинает распознавать объекты точнее, стараясь отличить одну букву от другой. Трансформируется восприятие звуков: благодаря чтению в этот процесс встраивается алфавит — слыша звук, человек представляет букву.
Оказаться в шкуре героя
В височной коре и миндалине мозга находятся зеркальные нейроны. Именно благодаря им люди могут повторять движения друг за другом в танце, пародировать кого-то или испытывать радость, глядя на улыбающегося человека. «С точки зрения биологической целесообразности это правильно. Эффективнее, когда у стаи, у сообщества единая эмоция: все вместе убегаем от опасности, боремся с хищником, отмечаем праздники», — объясняет важность механизма доктор биологических наук Вячеслав Дубынин.
Исследование Университета Эмори доказывает, что человек может испытывать эмпатию не только по отношению к соседу или прохожему, но и персонажу книги. Читающим участникам эксперимента сделали серию МРТ, которая показала повышенную активность в центральной борозде мозга. Нейроны в этом отделе могут преобразовывать размышления в реальные ощущения — например, мысли о будущих соревнованиях в ощущение физической нагрузки. А во время чтения они буквально помещают нас в шкуру любимого героя.
«Мы не знаем, как долго могут сохраняться такие нейронные изменения. Но тот факт, что эффект даже от случайно прочитанного рассказа обнаруживался в мозге спустя 5 дней, позволяет предположить, что самые любимые книги могут влиять на вас гораздо дольше», — говорит ведущий исследователь проекта Грегори Бернс.
Для работы и удовольствия
Однако не всем книгам суждено вызвать у вашего мозга эмпатию и интерес. В своей книге «Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel» профессор Лиза Заншайн пишет, что обычно любимым жанром становится именно тот, который подходит мозгу читателя, например сложные детективы — любителям задач на логику. Но чтобы добраться до самих чувств, нередко приходится прорываться через сложные когнитивные упражнения, которые включали в свои тексты, к примеру, Вирджиния Вульф и Джейн Остин, считает Заншайн, — вроде фраз «она понимала, что он думал, что она смеялась над собой, и это ее беспокоило». Такие конструкции заставляют последовательно переживать несколько эмоций.
О Джейн Остин вспоминает и писатель Мария Конникова. В статье «What Jane Austen can teach us about how the brain pays attention» она рассказывает про эксперимент нейробиолога Натали Филлипс, посвященный разному восприятию текста. В исследовании участвовали английские студенты, незнакомые с романом Остин «Мэнсфилд-парк». Сначала они читали текст в расслабленном режиме — просто чтобы получить удовольствие. Затем экспериментатор попросила их проанализировать текст, обратить внимание на структуру, основные темы и предупредила, что им предстоит написать эссе о прочитанном. Все это время студенты находились в аппарате МРТ, который следил за работой их мозга. При более расслабленном чтении в мозгу активизировались центры, ответственные за удовольствие. При погружении в текст активность смещалась в область, ответственную за внимание и анализ. Фактически, задавшись разными целями, студенты увидели два разных текста.
Чтение делает умнее?
Считается, что чтение полезно для интеллекта. Но так ли это на самом деле? Эксперимент Общества исследований в области развития ребенка среди 1890 однояйцевых близнецов 7, 9, 10, 12 и 16 лет показал, что ранние навыки чтения влияют на общий уровень интеллекта в будущем. Дети, которых активно учили читать в раннем возрасте, оказывались умнее своих однояйцевых близнецов, не получавших такой помощи от взрослых.
А исследователи Университета Нью-Йорка выяснили, что чтение коротких художественных рассказов немедленно улучшает способности к распознаванию человеческих эмоций. Участники этого исследования разделились на группы и определяли эмоции актеров по фотографиям их глаз после чтения популярной литературы, нон-фикшна или художественных новелл — результат последней группы оказался гораздо более впечатляющим.
Многие относятся к результатам этих экспериментов скептически. Так, сотрудники Университета Пейса провели похожий эксперимент на угадывание эмоций и выяснили, что люди, которые больше читали на протяжении всей жизни, действительно лучше декодируют выражения лица, но ученые призывают не путать причинность с корреляцией. Они не уверены, что результаты эксперимента связаны именно с чтением: возможно, эти люди больше читают именно потому, что они эмпатичны, а не наоборот. А когнитивный нейробиолог MIT Реббека Сакс отмечает, что сам метод исследования очень слабый, но ученым приходится им пользоваться из-за отсутствия более совершенных технологий.
Другим нашумевшим исследованием, уязвимым для критики, оказался эксперимент ученых Университета Ливерпуля. Они измеряли когнитивную активность студентов литературных факультетов и выяснили, что у более начитанных и способных к анализу текстов учащихся наблюдается повышенная мозговая активность. В этом выводе также корреляция подменяется причинностью: возможно, наиболее начитанные участники показали такие результаты из-за врожденных когнитивных способностей (и по этой же причине в свое время полюбили чтение).
Но, несмотря на все несхождения, исследователи не остановятся и продолжат искать пользу от чтения, уверен профессор литературы Брауновского Университета Арнольд Вайнштейн: ведь это один из эффективных способов «спасти» литературу в эпоху, когда ее ценность и польза все чаще ставятся под вопрос.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ: КАК МЫ ЧИТАЛИ, ЧИТАЕМ И БУДЕМ ЧИТАТЬ
Благодаря достижениям науки мы неплохо изучили работу наших тел, и мы знаем, в какие зоны мозга приливает кровь, когда мы открываем книгу. Но начать эту историю следует не отсюда, а с далекого 1896 года от Рождества Христова.
Странная история Перси
1896 год. В Великобритании, в графстве Сассекс, местечке Сифорд, живет 14-летний мальчик Перси. Он второй ребенок из семи. Он воспитывается в семье интеллигентных родителей. Сообразительный, умный, он ни в чем не отстает от своих сверстников. Но есть одна проблема. Перси не умеет читать. Родители нанимают ему частных учителей, которые предпринимают самые невероятные попытки, чтобы заставить Перси прочесть хотя бы слово. Но все тщетно.
Отчаявшиеся родители обращаются к врачу общей практики по имени Уильям Прингл Морган. Мистер Морган обнаруживает, что Перси знает все буквы, может написать их и прочитать. Но прочесть больше слога он не в состоянии, а еще он так и не смог овладеть письмом. Вместо Percy он пишет Precy, English — Englis, Seashore — seasaw. И даже то, что он написал сам, прочитать он не в состоянии. При этом Перси отлично считает и записывает математические выражения.
Прингл Морган изумился уникальности этого случая и опубликовал в British Medical Journal статью с описанием заболевания Перси. Он назвал это странное нарушение «врожденная слепота к словам» (congenital word blindness) и предположил, что дело во врожденном нарушении работы мозга. Помочь Перси Прингл Морган был не в состоянии.
И даже в конце XX века вряд ли Перси смог бы получить врачебную помощь, но ему уже поставили бы диагноз «дислексия», нарушение способности к овладению навыком чтения. В основе дислексии лежат нейробиологические причины. Определённые зоны мозга у таких людей функционально менее активны, чем в норме. Структура мозговой ткани тоже имеет у лиц с дислексией отличия от нормы — например, у них обнаружены зоны пониженной плотности в задней части средней височной извилины слева.
Такой диагноз Перси могли бы поставить благодаря тому, что в начале века, во время Первой и Второй мировых войны в СССР жил и работал выдающийся ученый Александр Романович Лурия. Лурия оказывал врачебную помощь солдатам и заметил, что при повреждениях разных зон головного мозга у солдат возникали разные нарушения. Он предположил, что нельзя выделить какую-то конкретную зону мозга, которая отвечает за что-то одно и любой психический процесс является сложным, в нем задействовано сразу много зон.
МРТ позволяет заглянуть в мозг без того, чтобы вскрывать черепную коробку
Лурия стал основателем науки, которая изучает связь структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ. Он назвал ее «нейропсихология». В современном мире наука занимается в основном изучением и реабилитацией больных с травмами головного мозга, но кроме этого, она изучает, как протекают разные процессы, в том числе интересующее нас чтение.
В наше время в арсенале нейропсихолога есть приемы и методы, которых не было раньше. Например, МРТ, которое позволяет заглянуть в мозг без того, чтобы вскрывать черепную коробку. С помощью МРТ можно отследить, в какую часть мозга приливает больше крови, и таким образом мы узнаем, какая часть мозга у нас активна, когда мы мечтаем, читаем или едим.
Вернемся в 1896 год, к мальчику Перси. Перси был совершенно здоровым ребенком, у которого, как мы понимаем, по сути проблем практически не было, кроме того, что он не мог научиться читать. С точки зрения эволюции можно сказать, что Перси был отличным представителем своего вида. Как мы можем с легкостью заметить, для приматов, к отряду которых принадлежит homo sapiens, не характерно чтение.
Человечество умеет читать и писать всего около 5000 лет. Наша способность к речи гораздо старше. В контексте эволюции это ничтожно малый срок, за который не могло сформироваться ни нового биологического вида, ни стабильной, передающейся из поколения в поколение и присутствующей у каждого человека мутации нового гена. Человеческому мозгу приходится идти на невероятные ухищрения, чтобы мы могли читать.
В акте чтения участвуют 17 областей мозга, причем не все из них одновременно!
Когда мы видим слово на странице, наш мозг сначала анализирует визуальную информацию, затем соединяет ее с тем, что мы знаем о слове («корова» выглядит вот так, значит вот это, звучит вот так). А затем — магия! Наш мозг в течении пары миллисекунд соединяет информацию, которую мы получили, с тем, что персонально мы знаем об этой информации, анализирует и сравнивает, и так мы можем делать собственные выводы о прочитанном и получать ассоциации. Чтобы совершать такие сложные операции, наш мозг вынужден импровизировать и использовать области, которые предназначены для распознавания устной речи, моторной координации и зрения. В акте чтения участвуют 17 областей мозга, причем не все из них одновременно!
Например, для того чтобы соотнести образ буквенного знака с его звучанием, мы используем теменно-затылочные отделы коры мозга в левом полушарии. Это та самая часть мозга, которая, например, помогает нам отличить лимон от ананаса, а табуретку от кошки. Из-за этого мы воспринимаем буквы как физические объекты. И, кстати, во многом поэтому, как пишет, например, психолингвист Марианна Вулф в книге «Пруст и кальмар», первыми видами письма были пиктограммы и иероглифы, а буквы современных алфавитов произошли от форм предметов и явлений материального мира. В букве С несложно узнать убывающую луну, а латинская S напоминает по форме змею.
Мозг воспринимает текст как ландшафт
Чтение не является в чистом виде «рецептивным» процессом. Прочитать книгу — значит не просто запомнить сюжет. Чтение также является продуктивным, производящим процессом, так как во время чтения мы проговариваем слова, которые читаем, и осмысляем то, что мы читаем. За осмысление отвечают лобные доли левого полушария мозга. Люди с травмами лобных долей не могут, например, создавать смысловые догадки, додумывать прочитанное и строить стратегию чтения. Все вместе это приводит к неправильному пониманию читаемого.
Интересно, что мозг воспринимает текст как ландшафт. Во время чтения возникает ментальная модель текста, в которой значение привязано к структуре, внешнему виду и даже к запахам и тактильным ощущениям. Многие из нас наверняка замечали, что, сидя на экзамене в университете и пытаясь судорожно припомнить цитату из учебника, мы вспоминаем не только сам текст, но и его место на странице, шрифт, которым он набран, и фактуру бумаги.
Кстати, с этим частично связан тот факт, что многие люди предпочитают бумажную книгу электронной — в бумажной проще «ориентироваться», ведь у нее есть обложка и оглавление, ее можно осязать и нюхать. А электронная книга часто создает у читателя ощущение, что его «телепортируют» бог весть куда, когда он нажимает на ссылку.
Второе пришествие Гутенберга
Первой серьезной революцией в мире книги стало изобретение книгопечатания. Станок немецкого мастера Гутенберга позволил чтению стать общедоступным. То, что было уделом избранных, внезапно стало массовым. Казалось, самый серьезный переворот в мире книги уже случился, и теперь мы можем только пожинать плоды и почивать на лаврах. Но, как оказалось, самое серьезное событие было еще впереди.
Настоящая революция в мире чтения происходит прямо сейчас, у нас на глазах. Ею стало появление доступных компьютеров и электронных текстов, расколовшее общество на сторонников «старой доброй книги» и тех, кто приветствует чтение с устройств.
Первые исследования того, как мозг воспринимает электронный текст, стали появляться еще в 80-х. До 1992 года все исследования показывали, что люди читают с экрана медленнее, чем с бумаги, и хуже понимают, о чем речь. Но в 1990-х ситуация начала меняться, и результаты предыдущих экспериментов стали жестко критиковаться.
Например, в 80-х исследователи утверждали, что люди читают с экрана на 20–30% медленнее, чем с бумаги. В начале 2000-х появились ученые, которые заявили, что этим результатам нельзя доверять, потому что в экспериментах были использованы экраны с разными разрешениями и разными размерами шрифта.
С точки зрения понимания содержания нет большой разницы между чтением с бумаги или с электронной книги
В 1985 г было объявлено, что люди хуже понимают текст, читая с экрана. В 2014 г университет Ставангера (Норвегия), провел эксперимент, участники которого, студенты примерно одного возраста, читали мистическую повесть с бумаги или с Kindle. Выяснилось, что нет никакой разницы между временем чтения, уровнем понимания текста и эмоциональной реакцией группы, которая читала бумажную книгу, и группы, которая использовала устройство. Впрочем, неудивительно, что люди с выработанной привычкой к чтению с экрана понимают текст не хуже, чем те, кто читает с бумаги.
Современные исследования показывают, что с точки зрения понимания содержания нет большой разницы между чтением с бумаги, с электронной книги или с устройства с обычным экраном. Исключение составляют пожилые люди — они читают гораздо быстрее, если предложить им планшет с высокой яркостью экрана.
На заре исследований чтения с экрана ученые использовали в том числе хорошо известный юзабилити-специалистам метод eye tracking (отслеживание движения глаз). Они ожидали, что если чтение с экрана сильно отличается от чтения с бумаги, то и движение глаз человека будет другим.
Во время чтения глаза совершают так называемые прыжки и остановки. Остановка длится примерно 250 миллисекунд, и во время нее мозг воспринимает слово. Во время остановки мы в состоянии воспринять только слово, которое находится в «визуальном поле чтения», в очень узком коридоре, на который направлен наш взгляд. Это поле может быть измерено в количестве символов.
В 1987 году было проведено исследование, которое показало, что при чтении с экрана происходит на 15% больше остановок, но в целом движение глаз такое же. А в 2006 г обнаружилось, что способ чтения с экрана резко изменился. Если в 1987 году люди читали линейно, то есть одно слово за другим, то теперь они стали пользоваться так называемым нелинейным чтением, или «F-паттерном». Это способ, которым люди обычно просматривают веб-страницу — они прочитывают заголовок или верхнюю линию, а дальше просто сканируют левую сторону текста, додумывая содержание правой. Это увеличивает скорость чтения, но ухудшает понимание текста.
Постоянное чтение с экрана влияет на тип чтения, которым мы пользуемся, когда читаем с бумаги. До появления электронных текстов мы читали линейно, и многим людям приходилось учиться скорочтению. А теперь ситуация поворачивается неожиданной стороной — люди разучиваются читать линейно. Некоторые психолингвисты даже рекомендуют заставлять себя читать линейно 30–40 минут в день, чтобы не потерять навык.
Интуитивной навигацией обладает книга, но не читалка
Основной проблемой для людей, читающих электронные тексты, становится навигация и невозможность применить к электронному тексту навыки манипуляции с текстом бумажным. Например, у бумажной книги можно загибать уголки или слюнявить странички, переворачивая их. Процесс общения с бумажной книгой во многом носит тактильный характер и активирует дополнительные зоны в мозгу. Устройства не могут передать ощущение переворачивающихся страниц, в них нельзя загнуть уголок. Ученые предполагают, что это влияет на чувство контроля происходящего, увеличивает стресс и ухудшает запоминание текста. Как бы мы ни говорили об интуитивной навигации, интуитивной навигацией обладает книга, но не читалка. Именно поэтому так важно, чтобы читалка имела номера страниц и прочие маленькие милые особенности, которые делают ее более похожей на бумажную книгу.
Гиганты электронной книжной индустрии, такие как Amazon и Kobo, активно исследуют изменения читательских привычек современного человека. Они выясняют, что лучше — свайп или скролл (спойлер: мозгу все равно) и мешает ли чтению добавление интерактивных ссылок в текст (очень мешает). И становится ясно, что с каждым годом мы все больше переносим свои сетевые привычки в материальный мир. Как бы мы ни любили запах бумаги, то, как мы читаем, определяет уже не печатная книга, а веб-страница. Конечно, книга не умрет, но она изменится так, чтобы нам было удобно ее читать.
ЗдоровьеКак нас обманывает собственный мозг, а ментальные трюки мешают оценивать реальность
Конфликтующие нейроны и не только
Человеческий мозг — самый сложный механизм во Вселенной, который, сколько бы времени наука ему ни посвятила, всегда будет оставаться недостаточно изученным. Всё, что мы испытываем, в каком-то смысле является лишь плодом нашего воображения. И это не философская фраза, а факт из нейробиологии. Так что даже когда ощущения кажутся нам точными и реальными, они совсем не обязательно отражают реальность вокруг нас.
текст: Марина Левичева
Как учёным помогают визуальные иллюзии
Большинство вещей, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни, вызваны физическими стимулами, посылающими в мозг сигналы. Но ключевое слово здесь «большинство», потому что те же нейронные механизмы, которые вступают в отношения «стимул — реакция», отвечают за такие вещи, как фантазии или сны. Короче говоря, поскольку у реального и нереального один физический источник в мозге, всегда существует вероятность ошибки.
Самым простым способом изучения того, как это работает, всегда были иллюзии. В первую очередь визуальные. Мы все знаем эти картинки, на которых, если присмотреться или посмотреть под правильным углом, можно увидеть то, чего нет, или, напротив, не увидеть то, что очень даже есть.
Ещё Аристотель говорил, что чувствам, конечно, можно доверять, но они могут обманывать. Это он заметил, что если сначала какое-то время смотреть на водопад, а затем перевести взгляд на неподвижные камни рядом, они «поедут» в другом направлении. Очень простой, но крайне показательный эксперимент демонстрирует то, что сегодня мы называем последействием движения.
Сейчас учёные знают, что за отслеживание потока воды (движения) отвечает определённая группа нейронов. Когда мы смотрим на воду и ничего не меняется, эти нейроны «расслабляются». Но как только взгляд переводится на неподвижный объект и в работу вступают конкурирующие нейроны, ответственные уже за неподвижные объекты, первая группа нейронов резко активизируется — и создаёт движение без движения.
Сканирование мозга людей, которые рассматривают картинки с иллюзиями, показывает, что за восприятие чёрного и белого, по всей видимости, тоже отвечают конкурирующие группы нейронов. Так что похожим образом можно объяснить многие ситуации, в которых мы не можем поверить собственным глазам (за исключением роста цен на продукты).
Почему мозг вообще это делает
Секрет всех без исключения сенсорных систем состоит в том, что они отстают от реального мира на какое-то количество миллисекунд. Но чтобы мяч не прилетел в лицо раньше, чем мы заметим, куда он летит, мозг просчитывает это наперёд. Это эволюционный механизм адаптации, который, как и многие другие подобные механизмы, помог человечеству выжить. Это первое.
Второе — обманные манёвры от нашего главного органа чаще всего объясняют тем, что у него банально не хватает времени на всё. Речь идёт о том, что каждый день в мозг поступает очень много информации из внешнего мира. И чтобы не перегореть, как офисный работник в конце года, он облегчает себе задачу там, где это возможно.
В итоге вместо того, чтобы постоянно обрабатывать свежую информацию, он создаёт ментальные модели об устройстве мира, основываясь на памяти и опыте. Это высвобождает довольно много времени и ресурсов, которые ему нужны.
От эвристики доступности до ложных воспоминаний
Как мы уже поняли, один из самых больших недостатков мозга состоит в том, что он довольно ленив. И когда ему нужно решить проблему, он часто возвращается к решениям, которые хорошо работали в прошлом. Во многих случаях это полезный и эффективный подход, позволяющий экономить время. Но иногда эти мысленные сокращения могут привести к ошибкам.
Например, путешествовать на самолёте страшнее, чем на машине, потому что истории об авиакатастрофах обычно более громкие. Но на самом деле на дорогах ежедневно погибает очень много людей, а самолёт — один из самых безопасных видов транспорта. Этот ментальный ярлык называется эвристика доступности.
Кроме того, наше мышление постоянно находится под влиянием предубеждений. Самый очевидный пример — эффект ореола. Это когда привлекательного человека принято наделять положительными качествами, которых у него, возможно, никогда не было.
Или ретроспективное искажение, в быту известное как «я же говорила» (вспоминаем танец Эллиот из «Клиники») или «я так и знал». После того, как что-то уже произошло, кажется, что мы как раз так себе всё и представляли. Хотя на самом деле, вполне вероятно, не совсем так. Или, другой вариант, вообще никак не представляли.
А ещё есть такая штука, как предвзятость подтверждения: речь идёт о том, что если мы во что-то верим, мы будем обращать внимание на вещи, которые подтверждают это. В то же время вещи, которые могли бы заставить нас усомниться в своей теории, наоборот, будут активно игнорироваться.
В дополнение к этому огромное количество поступающей информации заставляет мозг делить её по принципу «важное» и «неважное». Так возникает, например, явление, известное как слепота к переменам. В ходе одного из исследований, где собеседники на сцене менялись местами после короткого перерыва, большинство людей этого даже не замечали. Учёные говорят, кстати, что такие вещи часто происходят, когда мы крайне сосредоточены на чём-то одном.
Ну и нельзя не сказать о ложных воспоминаниях, тысячу раз обыгранных в популярной культуре. Поскольку наша память не похожа на камеру, которая фиксирует события с точностью до секунды, человека удивительно легко заставить поверить во что-то, чего никогда не происходило.
О людях, которые могут читать наши мысли
Помимо уже перечисленных ментальных ярлыков, которые мы тут назвали ошибками мозга (и это справедливо, если без негативной коннотации), есть и другие. В каком-то смысле даже более интересные.
Если вы когда-нибудь ходили по торговому центру после расставания, то, блуждая между рейлами с одеждой, могли думать, что все взгляды сейчас обращены на вас. И речь шла не о продавце, который только и ждёт, чтобы задать свой любимый вопрос: «Могу ли я чем-нибудь помочь?» В такие минуты у многих создавалось ощущение, что каждый человек в здании знает, о чём мы думаем и что чувствуем. Хотя на самом деле это, конечно, было не так.
Менее драматичная ситуация такого рода могла бы случиться на публичном выступлении. Если бы человек, который очень волнуется, читая доклад, думал, что абсолютно все в зале замечают его волнение. Этот трюк мозга называется иллюзией прозрачности.
Не менее любопытен эффект прожектора — склонность к переоценке того, насколько мы и наши действия интересны окружающим. Чем более неловким выдался момент, тем эта склонность, как правило, сильнее. Хотя на самом деле людям (по крайней мере подавляющему их большинству) в первую очередь интересны они сами, а не кто-то запнувшийся на эскалаторе.
В качестве заключения припомним эффект Барнума, названный в честь американского шоумена Финеаса Барнума, прославившегося в XIX веке своими мистификациями. Суть его сводится к тому, что люди обычно очень высоко оценивают обобщённые описания своей личности, называя их точными и достоверными. И да, именно за счёт этого живут тесты на определение типа личности и гороскопы.